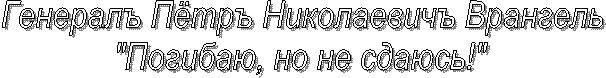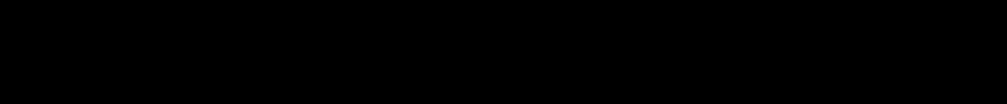

|
А. Мальчевский. Ген.-Лент. Петр Николаевич барон Врангель
(доклад прочитанный на 6-ом Съезде в Венецуэле)
Ваше Преосвященство, Ваше Высочество, Елена Петровна и дорогие участники съезда! 25 апреля 1928 г., для всех антикоммунистов, было ознаменовано НЕПОПРАВИМЫМ, тяжелым, трагичным событием: в этот печальный день в Брюсселе скончался генерал-лейтенант Петр Николаевич барон Врангель. Не стало одного из самых замечательных и обаятельных русских людей. Одного из спо-собнейших русских полководцев, чье имя запечатлено на вечные времена в истории ЗЕМЛИ РУССКОЙ. Бескомпромиссного идейного борца с красной нечистью, БЕЛОГО ВОИНА — РЫЦАРЯ БЕЛОЙ ИДЕИ... Еще один тяжелый удар выпал на долю БЕЛОГО ВОИНСТВА и всех тех, кому было дорого имя нашей родины. В этом году исполняется 50 лет со дня ЕГО смерти. Срок для человеческой жизни довольно значительный. Срок, в течение которого бывает позабыто многое... Но не забылось и не забудется нами имя любимейшего полководца, обладавшего государственным умом, а в военных делах, помимо личной храбрости, обладавшего знаниями военной науки и искусства, необходимыми для подлинного ПОЛКОВОДЦА, как и беспредельной любовью к РОССИИ и сердцем большого Человека.
Даже в рядах идейных и кровных врагов, наградивших ЕГО кличкой «Черного Барона», при всей поносящей его пропаганде, чувствовался не только страх от «чудо-побед», которыми он руководил, но и скрытое уважение как к человеку, умело ведущему свое идейное дело.
Происходя из невоенной семьи, в детстве и юности генерала Врангеля было мало общений с военной средой. Ни родители его, ни он сам не готовил себя к военной карьере. Правда, выбранная им профессия горн. инженера указывала на его бесстрашие и влечение к опасности. Только отбывая срок воинской повинности в Лейб-Гвардии Конном Полку, он впервые всесторонне познакомился с полюбившейся ему военной средой. Эстандарт-юнкером он сдает экзамен при Николаевском Кавалерийском Училище на первый офицерский чин... А начавшаяся война с Японией окончательно решает его будущее. В этой войне, будучи молодым офицером, он решает все поставленные ему задания с успехом, за что получает признательность со стороны высших начальников, представляется к боевым наградам и дальнейшему продвижению по службе. Видно Сам Господь Бог предопределил ему военное будущее, предназначая его уже тогда на должность ПОСЛЕДНЕГО ПРАВИТЕЛЯ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО и СПАСИТЕЛЯ ЧЕСТИ РОССИИ.
Теперь даже жутко подумать о том, что могло бы произойти с обескровленной в непрестанных боях РУССКОЙ АРМИЕЙ, не будь приказа за № 2899 от 22 марта 1920 г., подписанного генерал- лейтенантом Антоном Ивановичем Деникиным:
ПРИКАЗ Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России. Гор. Феодосия № 2899 22 марта 1920 г. § 1 Генерал-лейтенант барон Врангель назначается Главнокомандующим вооруженными силами на юге России. § 27 Всем честно шедшим со мною в тяжелой борьбе —низкий поклон. Господи, дай победу армии, спаси Россию. Генерал-лейтенант ДЕНИКИН.
И в тот же день в городе Севастополе:
ПРИКАЗ Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России. Гор. Севастополь № 2900 22 марта 1920 г. Приказом от 22 марта за № 2899 я назначен ген. Деникиным его преемником. В глубоком сознании ответственности перед Родиной, я становлюсь во главе Вооруженных сил на Юге России. Я сделаю все, чтобы вывести армию и флот с честью из создавшегося положения. Призываю верных сынов России напрячь все силы, помогая мне выполнить мой долг. Зная доблестные войска и флот, с которыми я делил победы и часы невзгоды, я уверен, что армия грудью своей защитит подступы к Крыму, а флот надежно обеспечит побережье. В этом залог нашего успеха. С верою в помощь Божью приступим к работе. Генерал-Лейтенант барон Врангель.
Этим числом и этими приказами открывается новая, хотя и короткая эра в эпопее БЕЛОЙ БОРЬБЫ за спасение БЕЛОЙ ИДЕИ и спасении родины. Громовым «УРА!» прокатилось приветствие новому Главнокомандующему, чьи личные качества, знания и способности стратега- полководца были хорошо известны большинству воинских подразделений Русской Армии. Слава о его личной храбрости шла за ним еще со времен войны с Японией, подкрепляясь новыми геройскими делами, как в войну с Германией, начиная от облетевшей правительства и население воюющих стран победы под Кушино, до блестящей победы и взятия Царицына, прозванного большевиками в гражданскую войну «Красным Верденом». Взятием Царицына генерал Врангель стремился воссоединить силы Юга России с добровольческой армией Адмирала Колчака, бывшего тогда Верховным Правителем России. И не по его вине этого не случилось. Генерал Деникин, видимо, больше доверял планам своего начальника генерального штаба, Генерала Романовского, чем оправданным настояниям Генерала Врангеля.
Сразу же по вступлении в должность Главнокомандующего Генерал Врангель ясно подчеркнул свою НЕПРИМИРИМОСТЬ к большевикам, отклонив требование англичан о заключении перемирия с красными, под угрозой потерять и ту микроскопическую помощь, которую они оказывали до этого ген. Деникину.
Со вступлением Генерала Врангеля на пост Главнокомандующего, настроение военных частей изменилось к лучшему Сама собой улетучилась неуверенность в правоте своего дела, удрученность сменила бодрость, реальней стала надежда, а главное — снова воскресла ВЕРА в своего Главнокомандующего, а вместе с ней, и в светлое будущее РОДИНЫ. Никто из строевиков не мог понять и объяснить, что именно произошло... Но всем было ясно, что появилось что-то новое, стихийно сильное, манящее и влекущее к себе и за собой. Забывались снова голод, холод и боевые тревоги. Боевой дух в частях был высок, как никогда за все время гражданской войны...
Мало кто из белых воинов, рядовых борцов, знал и думал о том, что было известно Генералу Врангелю и о чем, и против своего желания, ему приходилось думать. Только самые близкие круги, окружавшие его — высшие военачальники — вместе с ним знали, что приказ за номером 2899 пришел с запозданием. Карты уже тогда, 22 марта 1920 года, были биты. Одной, если не самой главной виной этому была ошибочная стратегия генерала Романовского, как и неиспользование победы — взятия Царицына... Главнокомандующий лучше других понимал, что потерянного не только не вернуть, но и исправить нельзя при всех располагаемых им средствах, как в числе людского состава Белой Армии, не имевшей ни откуда пополнений, так и во всех нуждах, необходимых для продления дальнейшей успешной борьбы с узурпаторами нашей родины. Правда, Генерал Врангель все еще не терял надежды на чудо прозрения и просветления умов наших союзников... Что надежда на это чудо была весьма шаткая, доказывает то, что с самого начала вступления на пост Главнокомандующего, наравне с надеждой на успех, он трудился и над разработкой планов в случае поражения. Таким образом, уже с самого начала были предприняты им предварительные меры на случай эвакуации Крыма, руководясь тем, чтобы спасти всех тех, кто не пожелал бы остаться в лапах у красных. Главным образом подыскивлася необхдоимый «тоннаж», шли ремонты как военных судов под Андреевским флагом, так и коммерческих, и всего того, что было способно принять на себя людей и двигаться на буксире... Главное затруднение было в выискивании притока угля и других погонных материалов, необходимых в судоходстве.
Принимая должность Главнокомандующего, ОН знал, что «не триумфальным шествием, под звон колоколов, из Крыма к Москве можно освободить Россию». Сперва надо было создать, хотя бы на клочке Русской Земли Правовое Государство, где народ не только на словах, но и на деле уверился бы, к чему ведет в окончательном итоге БЕЛАЯ ИДЕЯ. Параллельно с реорганизацией самой АРМИИ, шла работа в тылу направленная главным образом, против всосавшейся административной рутины и «офицеров-тыловиков» по всем, самым разнообразным причинам отсутствующих на передовых линиях и проводящих распутную жизнь. Отдавая приказ Русской Армии, Геенрал Врангель 20 мая 1920 г., объясняя задание армии в борьбе за освобождение России, закончил его словами: «Призываю к защите Родины и мирному труду русских людей и обещаю прощение к заблудшим, которые вернутся к нам. Народу — ЗЕМЛЯ и ВОЛЯ в устройстве Государства. Земле — волею народа поставленный ХОЗЯИН. Да благословит нас Бог. Генерал Врангель. А в воззвании, подписанном тем же числом, объясняется народу, за что борется Русская Армия:
1. За поруганную веру и оскорбление святыни. 2. За освобождение от ига коммунистов, бродяг и каторжан. 3. За прекращение междоусобной брани. 4. За то, чтобы крестьянин обрабатывал собственную землю, занялся бы мирным трудом. 5. За истинные свободу и право. 6. За то, чтобы народ сам по себе выбрал хозяина. «Помогите мне, русские люди, спасти Родину?» Этими словами заканчивалось его воззвание. И надо отдать справедливость, что не только хлебом-солью, но с большим пониманием и доверием встречали крестьяне генерала Врангеля в освобождавшихся областях. А после продолжительных бесед, которые он умело вел с ними, они оставались покорены его планами. Все это, как для Армии, так и для населения освобожденных областей было ново по своей конструктивности, и по впервые поставленным ясным целям и заданиям, к которым стремится Белая Идея. Но... к сожалению, как самому Главнокомандующему, так и всем находившимся на освобожденной территории было ясно, что все это уже запоздало. Но пока все еще продложалась война большевиков с Польшей, в душе генерала Врангеля еще теплилась надежда... Надежда на ЧУДО. Поэтому он не прекращает своей работы с целью восстановления полного порядка и правды в подведомственных ему областях. Кипела работа и дальше у самих БЕЛЫХ ВОИНОВ. «С кем хочешь, но за Россию!» Этим лозунгом Главнокомандующего можно объяснить, почему в некоторых случаях «Махно» и «Зеленые» оказывались союзниками белых против красной нечисти.
Еще в самом начале, по принятии должности Главнокомандующего, видя почти что безвыходную ситуацию, Генерал Врангель поделился с близокружающими его людьми (высшими начальниками), что на победу рассчитывать он не может, а поэтому и не может ее обещать, но ОН обещал: «Не склонить знамени перед врагом и, если нам суждено будет погибнуть, то охранить честь знамени до конца». О самых причинах неудач, постигших Белое Дело, Генерал Врангель выразился честно и ясно: «Причины чрезвычайно разнообразны. Как окончательный вывод можно сказать, что с самого начала СТРАТЕГИЯ была принесена в жертву ПОЛИТИКЕ, а ПОЛИТИКА никуда не годилась. Вместо объединения всех сил проводилась политика «ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ»... и в окончательном итоге, провозгласив «Единую Великую и Неделимую», пришли к тому, что разделили ее на целый ряд враждующих между собой образований».
Через месяц после прихода к власти, генерал Врангель занялся переформированием и пополнением АРМИИ не добровольцами, а лицами, призванными по военной мобилизации. Новый дух, влитый в Русскую Армию, вера в своего Главнокомандующего, заслужившего в сказочно короткий срок любовь своих АРМИИ и ФЛОТА, несмотря на свою малочисленность по сравнению с силами окружавших врагов, делали чудеса. Войска шли от победы к победе. Разгром конницы Жлобы и чудом спасшаяся от такого же разгрома конница Буденного, большие потери в аммуниции, орудиях и людском составе в боях с Белыми в Таврии не на шутку обеспокоили как высшее военное командование большевиков, так и самого Ленина. Эти успехи Русской Армии не остались незамеченными у наших бывших союзников. Французское Правительство, все еще не признававшее Правительство Юга России, после этих одержанных побед над красными переменило свое мнение, о чем было сообщено из Парижа телеграммой нашего представителя Струве.
Появлялась какая-то надежда на прояснение умов и у других бывших союзников и казалось, что вскоре за примером Франции последует и Империя Его Королевского Величества Короля Великобритании... К сожалению, этого не произошло. Решение правительства Франции хотя и прибавило лишний шанс на благоприятный исход борьбы с большевиками и несколько ободрило как самого Главнокомандующего, так и население Юга России, все же полностью не давало к этому гарантий, вследствие чего, сохраняя самую строгую тайну, Генерал Врангель и дальше не переставал работать над вариантом эвакуации — оставления КРЫМА.
Приближение осени — времени, не подходящего для ведения наступательной войны с малыми силами против во много раз более многочисленного противника, привело Главнокомандующего к окончательному решению: «УКОРОТИТЬ ФРОНТ». Другими словами, утвердить оборону на Сивашах и перейти к обороне Крыма. Такое решение давало возможность переформирований частей, одновременно давая возможность отдыха для некоторых подразделений, временно освобожсднных от контакта с противником, а кроме того, было выгодно для самой обороны, ибо обыкновенно НЕЗАМЕРЗАВШИЕ Сиваши были природной защитой на подступах к Крыму.
Между тем, последнее слово в трагедии Белой Армии оставалось за злейшим врагом России — Маршалом Пилсудским. Совсем свежо было в воспоминании, когда он, чтобы не допустить победу Деникина, намеревавшегося идти на Москву, подписал с большевиками перемирие, таким образом освобождая силы большевиков для борьбы с Добровольческой Армией. Теперь же, в октябре 1920 года, он снова подписал с большевиками перемирие, что оказалось РОКОВЫМ в окончательном исходе борьбы Генерала Врангеля с большевиками. Как правильно понимали оба Главнокомандующих (ген. Деникин и ген. Врангель), Пилсудский считал для себя и для Польши меньшим злом иметь по соседству большевиков во главе с Лениным, чем Национальное Правительтсво России. Правдивой для Маршала (и к сожалению для Польского народа) оказалась русская народная мудрость: как аукнется, так и откликнется... И отклкинулось это Польше через неполных 20 лет, теряя свою свободу и проносясь эхом через КАТЫНЬ до самого ЗАПОЛЯРЬЯ. Оправдание поляков, что у Польши не было другого выхода, как подписать в октябре 1920 года перемирие с большевиками из-за недостатка амуниции, обуви, теплой одежды, белья и прочего, неохбодимого для сражавшихся, и что Франция как и другие западные государства не оказали ей вовремя помощь, не выдерживает критики. Вот, что пишет в журнале «Голос Зарубежья» Иосиф Мацкевич в статье «Не было пустых патронташей», побивая ею статью Юзефа Лабодовского, напечатанную в одном из номеров парижского журнала «Культура»: «На основании собственных, скромнейших наблюдений с седла рядового улана, помню, как после нашего июльского поражения и участия в трагическом отступлении, в составе тыловых частей, оборонявших наши отступающие войска от наступающего от берегов Двины большевистского 3-го Конного Корпуса ГАЯ, мы, достигнув Варшавы, пережили на МОКОТОВСКОМ поле подлинную метаморфозу». Дальше идет перечисление полученного ими (хотя и разношерстного) обмундирования с поясами, патронташами, новых седел, карабинов и амуниции по горло! Уланы не только были посажены на лошадей, но еще и роскошествовали, подбирая для каждого эскадрона отдельную масть коней. Польский историк, Побуч-Малиновский, представляет выпукло в своем отчете огневую мощь польской армии того времени, на самом главном секторе фронта Варшава-Модлин-Загрже: 36 новосформированных полевых батарей, 24 новых тяжелых батареи, 13 конных батарей, 200 дополнительных орудий и тысячи пулеметов. Как утверждает И. Мацкевич, и что известно нам самим, большевики под Варшавой были «разбиты вдребезги»... Стараясь не пользоваться свидетельствами из дневников и мемуаров, ибо «пишущие не любят уменьшать значение собственной роли», он остается при мнении, что после Варшавы настало «массовое бегство дезорганизованного противника». По свидетельству командира 26-го уланского полка, Тадеуша Махальского, «одно появление нашей кавалерии к северу от Лиды вызвало такое впечатление, что привело к нарушению всей советской обороны вдоль Немана». А по данным командира 16-го уланского полка, большевики были обстреляны из собственных орудий, доставшихся безнаказанно уланам... На юге, беспорядочно отступая, конная армия Буденного уходила за реку Стырь. Снаряжение, обмундирование и вид взятых в плен красноармейцев были плачевными. Конная армия была на краю своей гибели. Целые эскадроны переходили к полякам. 17 сентября 14-ая советская кав. дивизия перестала существовать. Пленные на допросах сходились в своих показаниях, что дивизии Буденного насчитывают всего лишь несколько сот всадников. Большевистская пехота оказалась не способной сопротивляться. 24-ая и 44-ая пехот, дивизии были расчленены на одинокие группы, скрывающихся в лесах. Сделалось так, что и воевать было не с кем. Дороги на Киев были открыты. 13-го октября на польских передовых позициях пронесся слух, что с большевиками подписано перемирие. На следующий день это было подтверждено и официально. Для чинов Польской Армии это было самым непонятным решением. В конце своего изложения Махальский раскрывает причину (ларчик): советская конная армия была отозвана с польского фронта для пополнения и переформирования и переброски ее на Крымский фронт против Врангеля. Маршал Пилсудский только в 1923 году в речи, произнесенной им в Вильно, признал, что: «Большевистская армия была тогда так вдребезги разбита по всей линии фронта, что ничто не мешало мне продвинуться так далеко, как бы я захотел. Удержало меня отсутствие МОРАЛЬНОЙ (выделено мною — А. М.) силы в народе». В чем именно заключалось отсутствие морали (со слов маршала) остается для нас и дальше неразгаданным. А что пан маршал и тут слукавил, доказывать не приходиться: о каком недостатке морали можно говорить, когда Польская Армия шла от победы к победе. И бросать тень на свой же Польский народ не было никакой надобности, ибо в то время даже воробьи на крыше маршала чирикали о том, что лучше иметь дело с Советами, чем с главнокомандующим Белой Армии, в данном случае с генералом Врангелем (особенно после разгрома конной армии Жлобы). Решением своим заключить перемирие с большевиками Маршал принял косвенное участие в большевистском поклике: «Все на Врангеля». А то, что Генерал Врангель, к тому времени, несмотря на малочисленность Русской Армии, стал для большевиков опасностью первой степени доказывает само воззвание Ленина от 2-го октября 1920 г.: «Товарищи! Все, как один, встаньте на защиту против Врангеля. Все на помощь красной армии, для победы над Врангелем! ОПАСНОСТЬ ВЕЛИКА!» (выделено мною—А.М.). Эта опасность подтверждается и более ранними телеграммами Ленина к Сталину от 4-го и 11-го августа 1920 г.
В «Архиве Русской Революции» находятся документы, указывающие на то, что красная армия была разгромлена после сражения на Немане, вследствие чего большевики не представляли особенной угрозы для Крыма. И только перемирие с поляками дало возможность Советам переорганизовать и пополнить остатки этой армии, чтобы бросить против Врангеля все, что еще у них было. Пилсудский же считал советскую Россию более податливой, чем ту, которая должна была возродиться на костях, крови и пепле революционного пожарища путем БЕЛОЙ ИДЕИ. Следовательно, не недостаток «моральной силы» в Польском народе, а чисто ПОЛИТИЧЕСКОЕ соображение руководило Пилсудским подписать перемирие с большевиками в тот момент, когда враг был разбит и ему не оставалось ничего другого, как просить о пощаде.
И вот, после 14 октября, после подписанного с Польшей перемирия с каждым днем растет и увеличивается боевая сила большевиков... И растет натиск красных на Крым. Одновременно с этим, у Главнокомандующего больше не остается надежды на чудо. Теперь все его помыслы сконцентрированы на эвакуации и спасении людских жизней героев. Героев, которые уже который год находятся в бесконечных лишениях, борющихся за славу и честь своей РОДИНЫ.
Подготовка к оставлению Крыма идет усиленным темпом, одновременно стараясь замаскировать настоящую цель, якобы приготовлениями к десанту в тылу у красных. Лично проверяя план эвакуации. Генерал Врангель приказывает повысить расчет на 15 тысяч человек. Сразу же было дано распоряжение на все суда, приготовляемые для эвакуации, грузить боевые и продовольственные запасы в Керчи, Феодосии и Ялте.
Трудно передать ту жертвенность, с которой воины Белой Армии защищали позиции на подступах к Крыму. Нельзя забыть и того, что в этом году сама природа оказалась немилостивой к защитникам последнего куска Русской земли; наступившие неожиданно сильные морозы сковали Сиваши льдом, что облегчало наступление большевиков. Чуть ли не накануне самой эвакуации Главнокомандующим была получена телеграмма атамана Семенова: «Оценив настроение казаков, иногородцев и крестьян, населяющих Российскую Восточную Окраину, пришел, к неуклонному решению во имя блага родины не только признать Вас как Главу Правительства Юга России, но и подчиниться Вам на основании преемственной законной власти Российской Восточной Окраины командования и выборным походным атаманом казачьих войск Забайкальского, Амурского, Усурийского и перешедших на ту же территорию во главе с их войсковыми правительствами Енисейского, Сибирского, Оренбургского и Башкирского...». Эти слова телеграммы были обнародованы в приказе Главнокомандующего за № 0010843. Заканчивался приказ пояснениями генерала Врангеля: «Отныне все казачество с нами. Польша заключила перемирие с врагом России, но главный союзник протягивает нам руку. Этот союзник — РУССКИЙ НАРОД».
Сама телеграмма и приказ Главнокомандующего были последней моральной поддержкой истекавших в крови белых воинов —защитников Крыма и как бы разрешили ген. Врангелю закончить последние приготовления для эвакуации Крыма. 29 октября, после 2х-часового разговора с командующим французской эскадрой адмиралом Дюмениль, генерал Врангель отдает приказ войскам «оторваться от противника и следовать к портам для погрузки». Тем же днем означен и приказ об оставлении Крыма.
Сама эвакуация была произведена беспримерно — блестяще, несмотря на недостаток тоннажа и оскудение в других средствах, необходимых для эвакуации. Генерал Врангель предусмотрел все, что только было возможно, для спасения не только Армии, но и всех тех, кто не хотел в будущем сотрудничать с большевиками. Все сведения из польских источников взяты мною из статьи известного польского писателя Иосифа Мацкевича, напечатанной в «Голосе Зарубежья» № 7, (с письменного разрешения журнала: «Перепечатка разрешается, но с указанием источника». — А. М.). Остальные сведения почерпнуты мною из книг, изданных полками Цветной Дивизии.
Чтобы фигура Генерала Врангеля, на поле событий Российского лихолетья получила более ясные выпуклые очертания необходимо поднять занавес над всем тем, что предшествовало зарождению БЕЛОЙ ИДЕИ, на том темном фоне трагических явлений намеренно созданных руководящими лицами вражеской Германии, равно и на близорукости, непониманию, глупости (иногда доходившего до цинизма и подлости) наших недавних союзников. Еще в 1916 году военный министр ген. Шуваев сказал в Государственной Думе: «Нет в мире сил способных победить Россию!» Наряду с этим во вражеской к нам Германии тогда уже ковался коварный план о котором, по окончании Первой Мировой Войны генерал Людендорф признался в том, что именно лежало в основании плана засылки в Императорскую Россию (предварительно снабдив их деньгами) революционеров при помощи которых можно бы было провести РАЗЛОЖЕНИЕ Русской Армии против которой Германии с каждым днем было труднее бороться имея к тому же уже оправившегося от прошлых неудач противника на Западе.... Предпринятую акцию генерал Людендорф называет «ВОЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ» тут же поясняя, что за это осуждать Германию было бы несправедливо ибо она была врагом России и боролась за свое СУЩЕСТВОВАНИЕ. Тут же невзначай он делает намек, что если кого надо осуждать за все что произошло дальше с Россией, то ТОЛЬКО ее «друзей» тогдашних СОЮЗНИКОВ (!?). Дальше он кается в соделанном, довольно наивно объясняя, что ему тогда и в голову не могла прийти мысль, что какие-то малоизвестные люди с довольно сомнительными характеристиками восседавшие попеременно в разных швейцарских кофейнях могли бы «успешно» справиться с доставшейся им по милости Керенского властью, крепко уцепиться за нее и теперь грозить в своих воинственных целях всей Европе, выбросив лозунг «Пролетарии всех стран объединяйтесь!» И знай он, что это случится именно так, он бы отказался подписать им (читай Ленину с его штабом) пропуск через Германию, хотя это и было для Германии военной НЕОБХОДИМОСТЬЮ. Предпринятая Германией акция первично принесла ей успех, но в то же время Германия не расчитала свои силы в борьбе проникавшей теперь уже с востока красной заразы, не предприняла против этого своевременно необходимых мер и таким образом в конечном итоге просчиталась.
Одним из величайших РУСОФОБОВ на фоне событий описываемого времени рядом с кряжистой фигурой руссо-ненавистника Пилсудского высится фигура Кайзера Вильгельма. Этот откровенно говорил, что Славяне и «Славянский вопроса ему попросту очертели. И что он сделает все, чтобы в будущем никакой России не существовало разделив ее на 4 государства. На какие именно он еще точно не знал за исключением одного — Украины... Эта его открытая политика к России и была как бы фундаментом для развития Украинской самостийности....
С падением Керенского и присвоением себе власти со стороны Ленина в России на всей ее обширной территории начинает зарождаться Белая Идея. На Юге России в феврале 18 года ею руководят Генералы Алексеев и Корнилов... Во вражеской Германии у людей стоящих у руля государственного управления все еще стелется туман в головах, что ясно видно из суждений тогдашнего Министра Иностранных дел Германии который все еще не может отличить понятие «России» от господствоавшего в ней узурпаторского режима большевиков. Мысль выраженная им настолько смехотворна для человека занимающего такое крупное государственное положение, что не будь она трагична ее можно было бы рассматривать как неудачный анекдот... Привожу ее полностью: Германское Правительство ожидает, что Россия примет все средства, которыми она располагает чтобы немедленно подавить восстание ген. Алексеева и чехословаков. (!?!?!)
От нашего врага я перескаиваю к нашему союзнику вышедшему самым сильным из Первой мировой войны, с наименьшими потерями уже и ввиду того что к участию в военных операциях он присоединился почти что ко времени разбора шапок. Правительство С.Ш.А. возглавлял в те времена президент Вильсон. Как большой ЛИБЕРАЛ и противник всякой МОНАРХИИ он в душе был на стороне большевиков, хотя, как человек умный, не мог не замечать творившихся анархии и бесчинствах на нашей родине. Свое нежелание помочь национальной России он мотивировал тем, что Америка этой помощью могла бы причинить России худший вред... Под худшим вредом Президент понимал восстановление если не Монархии то режима, который мог бы пойти путями Законов существовавших в России до революции.
Таким образом всякая помощь со стороны самой могущественной страны мира была для БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ исключена.
Представители властей Франции не были в своих высказываниях единодушны. Так, примера ради, Генерал Бертелло уже разработал план о вторжении в Россию 12 дивизий смешанного состава из французских и греческих военных соединений с тем чтобы с ними пробить дорогу до Москвы и восстановить в ней законную власть при содействии руководителей БЕЛОЙ ИДЕИ. В противовес ему Маршал Франше д-Эспре отстранялся от такого решения и защищал свое мнение тем, что солдаты Французской Армии после триумфального шествия по побежденной Германии вряд ли согласятся продолжать борьбу для оккупации России... Уж не говоря о том что такое мнение не соответствует его военному положению и чину, можно просто заявить, что Русский Вопрос, вопрос России пролившей столько крови в Мазурских болотах чтобы вызволить из беды французов нисколько не затрагивал его неблагодарную натуру.
А теперь обратимся к «Коварному Альбиону»: Вот слова Винстона Черчиля: «Европа обязана Югу России — читай Белому Движению — тем обстоятельством, что волна большевицкой анархии не захлестнула ее. В согласии с политикой Его Величества мое министерство окажет всякую поддержку путем доставки военного снаряжения и специалистов-экспертов не только Южной, но и Северной России и Сибири». Но умница Черчиль тут просчитался слишком понадеявшись на умную политику Его Величества натолкнувшись на «твердый камень» тогдашнего председателя министерского совета Ллойд Джорджа. Без всякого зазрения совести сей государственный муж заявил следующее: «Я не могу решиться взвалить на плечи Англии такую страшную тяжесть как водворение порядка в стране раскинувшейся в двух частях света, где чужеземные армии всегда испытывали неудачи. Мы не можем тратить свои скромные средства на участие в чужой гражданской войне...».
Не лучше отнеслись к вопросу о помощи Белой Армии и Японцы предпринявшие только интервенцию для вызволения из опасности Чехов с обещанием, что по окончании эвакуации из Сибири Чехов, выведут свои войска не желая вмешиваться в чужие гражданские войны... Приблизительно то же самое сообщил и Масарик, указывая на то, что это дело самих русских решать собственные проблемы. Между тем о проблеме вывоза золотых запасов Российского Государственного Банка позаботились его войска сформированные в России из бывших Австро- Венгерских пленных и к тому же бессовестно и подло предавших Адмирала Колчака.
Главный руссофоб Пилсудский уж никак не желал победу Национальной России, что и доказал своими действиями, указанными выше. Единственно Королевич Александр указывая на полное опустошение своей страны во время более четырех лет войны обещал дать помощь войсками численностью до 40 тысяч, но с безусловной матерьяльной помощью СОЮЗНИКОВ... Союзники НЕ ПОМОГЛИ.
Еще вчера бывший такой ДОРОГОЙ СОЮЗНИК как Русский народ сегодня оказался уже совершенно не нужным: Мавр выполнил свое задание- Сильной Национальной России видеть никто не хотел... Этим закончу то, что было необходимо указать для лучшего понимания какую жертву решил принести Генерал Врангель принимая на себя ответственность за все предстоящее, зная обо всем выше изложенном. Он знал что ему предстоит первым долгом спасать то немногое, что еще было возможно спасти. Свой долг, блестяще проведенную эвакуацию Крыма Генерал Врангель выполнил с честью. В самом начале, вступая в должность Главнокомандующего, он признался Военному Совету в том, что действительных шансов на будущие военные успехи он не предвидит, но, что деля с Армией славу побед, он не в праве отказаться испить с ней и ожидающие ее горести. «Я сделаю все чтобы вывести Армию и Флот с честью из создавшегося тяжелого положения!» И он, вероломно оставленный союзниками и предательски обманутый коварством Пилсудского, ИСПОЛНИЛ свое обещание и не добившись победы СПАС ЧЕСТЬ БЕЛОЙ АРМИИ и ЧЕСТЬ РОССИИ.
В заключении хочу еще раз подтвердить, его же приказом об оставлении Крыма, честность его служения России и Русскому народу. Цитирую отрывочно: «Русские люди! Оставшаяся ОДНА в борьбе с насильниками Русская Армия ведет неравный бой защищая последний кло-чек РУССКОЙ земли, где существуют право и правда... По моему приказанию уже приступлено к эвакуации.... Армия прикроет посадку, памятуя, что необходимые для ее эвакуации суда также стоят в полной готовности в портах.... Дальнейшие пути наши полны неизвестности.... Другой земли, кроме Крыма, у нас нет. Нет и государственной казны. Откровенно, как и всегда, предупреждаю всех о том, что их ожидает. Да ниспошлет Господь всем силы и разума одолеть и пережить русское лихолетье. Генерал Врангель.
Словами посвященными генералу Врангелю, сказанными скромным и большим патриотом, которыми была богата Русская Военная среда — Кадетом и артил. полковником Максимом Бугураевым я заканчиваю свой доклад. «Мы — белые воины — не забыли его и ЗАБЫТЬ ЕГО НЕЛЬЗЯ».
Алексей Мальчевский.
|